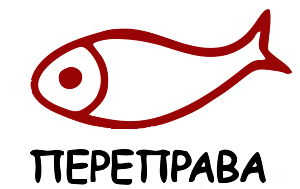Этот эпизод русской истории долгое время оставался потаённым или интерпретировался однобоко. Многие историки искренне следовали демократической, герценовской трактовке событий, другие опасались «обидеть» польских товарищей... Вот и вышло, что поучительный сюжет, в котором проявили себя и герои, и авантюристы, и демагоги, остаётся за пределами народных представлений об истории. А ведь это один из немногих примеров энергичного преодоления многостороннего кризиса. Тут вам политика – внутренняя и внешняя, бандитизм, терроризм, сепаратизм, коррупция, растерянность идеологов – и всё это на фоне экономического спада и в разгаре вовсе не сахарных Великих реформ.
Польша загорелась весьма своевременно. Подпольная работа активизировалась в 1862 году – и к началу 1863-го польские революционеры сделались опасной силой. Поляки учли ошибки прежних восстаний. На этот раз конспиративная организация отличалась железной дисциплиной: от кружков-троек до Центрального национального комитета под руководством Ярослава Домбровского. Каждый участник организации знал только двух собратьев по тройке и командира десятки. Литовский комитет возглавил Константин Калиновский – авантюрист хоть куда.
Все они перешли в наступление, когда был объявлен очередной рекрутский набор. Власти намеревались «перековать» польских патриотов в армии, а те демонстративно уклонились от службы. Тут уж заявили о себе и временное польское правительство во главе со Стефаном Бобровским, и террористические отряды, совершавшие дерзкие нападения на русские гарнизоны. 10 января прошло сразу пятнадцать кровавых налётов. Такой прыти от поляков не ждали. Повстанческие отряды бродили по западным окраинам империи, а местные заводы снабжали их оружием. Английская и французская дипломатия зорко следила за реакцией Петербурга на польские события и готова была всеми средствами сопротивляться попыткам России восстановить имперский порядок в восточных губерниях... Для императора Александра худшей ситуации и придумать было нельзя.
Можно в тысячный раз назвать государство системой подавления, только от этого во рту слаще не станет. Ни в 1863-м, ни сегодня нет способа существования, более сообразного человеческой природе, чем государство. Все крики о свободе и самоопределении заканчиваются непредсказуемой войной и суровой диктатурой. Держава не имела права не защитить себя, предать знамёна Суворова и Паскевича, знамёна Праги и Дрездена... Не имела права позволить истребление русского солдата. Польшей и Литвой Россия овладела по праву военных побед. В своё время Речь Посполитая сама приговорила себя, пристрастившись к хмелю демократии и безвластия, к шумному «майдану». Если бы столь слабый характер продемонстрировала Россия, варшавская шляхта шустро хозяйничала бы в Петербурге и Москве – и уж тут без обид, пожалуйста. Суд истории справедлив. После 1812-го империя вполне могла бы расшириться на запад ещё дальше, но император Александр знал меру.
Многие в России считали ошибкой присоединение Польши: дескать, правильнее было бы создать вокруг Варшавы хиленькое, но отдельное государство, подконтрольное Петербургу. А «внутренняя» Польша стала для державы Петра Великого постоянной головной болью, вечным источником смуты, обузой. Но нужно было нести бремя империи: уступишь в Польше – придавят и в Петербурге.
В 1860-е в России уже сформировалась интеллигенция – как инстанция, как орден. А государственники сначала по большому счёту почивали на лаврах победы 1814 года и Священного союза, а после падения Севастополя впали в панику. Кроме того, патриотизм в очередной раз бюрократизировался. Многим молодым людям в те годы казалось, что быть патриотом и монархистом можно только из корыстных побуждений или по инерции. Они, конечно, ошибались и не хотели постичь душу старшего поколения, но вспомним, как дорого нам стоила аналогичная ошибка в 1980-е... Патриотов и консерваторов, которых вдохновляла историческая память о Бородине и взятии Парижа, оставалось немало. Но многие из них ощущали себя отжившими, проигравшими. Да и реформы ошарашили приверженцев самодержавия...
Меньше десятилетия прошло после Крымской войны, остановившей победную экспансию России. Неудивительно, что в Париже и в Лондоне побаивались Россию – и со страху создавали образ огромной варварской державы, которая нависла над утончённой цивилизацией. Орды Аттилы, пришедшие с Востока, – подходящая историческая аналогия, она и пошла в ход.
Но зажать Россию в Польше, как в Крыму, западные державы не могли. Просто с точки зрения военных расчётов это оказалось невозможным, да и австрийцы с немцами не желали появления на политической карте Европы суверенного польского государства. Поэтому либеральная общественность негодовала, но поделать ничего не могла. Кстати, польский мятеж помог России всерьёз сблизиться с Пруссией. Этот союз вскоре позволит Бисмарку поставить на колени Францию.
Впрочем, когда Польша загорелась, многим в России всерьёз казалось, что речь идёт о крушении империи. После падения Севастополя апокалипсические настроения среди патриотов не затухали. Вспоминали о падении Константинополя, о гибели православной империи. Вот-вот Запад, объединившись с внутренними врагами престола, добьёт, задавит больного льва. Когда крамола вышла за пределы Польши и Литвы, многие – кто с ужасом, а кто и с надеждой – предполагали, что она охватит весь запад империи, и распад неизбежен.
Помните ситуацию 1993 года? Россия выводит армию из Европы, отказывается от геополитических завоеваний 1945-го – и тут же получает агрессию генерала Дудаева. Началась вынужденная контртеррористическая операция в условиях практически обнулённого военного бюджета. Аналогия станет яснее, если вспомнить, что в 1861-м Россия вступила в цикл смелых реформ, а экономика после Крымской войны и сокращения доходов от хлебного экспорта пребывала в отчаянном положении. Тут уж приходилось добывать победы «зубами».
Польша бурлила уже несколько лет, но с января 1863-го на западных рубежах Российской империи началась настоящая война. Отряды повстанцев нападали на русские гарнизоны, терроризировали обширные территории в Польше, Литве и Белоруссии. Восстание получило оттенок межрелигиозной бойни: жертвами повстанцев стали православные, а вдохновителями – ксёндзы. По отношению к православным повстанцы избрали политику устрашения: непокорных казнили.
Немногие в России сохранили хладнокровие и боевой дух – качества, позволившие нашей стране в XVIII веке превратиться в сверхдержаву. Одним из последних исполинов воинской державы был Михаил Николаевич Муравьёв-Виленский, в прежние годы уже послуживший на западе империи. Тогда он проявил себя решительным защитником православия, энергичным русификатором.
Муравьёву шёл 67-й год – возраст по тем временам мемуарный. И вот император Александр II был вынужден призвать его – своенравного старика, к которому питал антипатию. Ведь Муравьёв обстоятельно критиковал реформы, а в глазах либеральной общественности считался не просто «старовером», но по меньшей мере цепным псом. Прозвище Вешатель он сам себе придумал задолго до польской операции. Кто-то съязвил по адресу его родственника-декабриста, а Михаил Николаевич рубанул: «Я не из тех Муравьёвых, которых вешают, а из тех, которые вешают». Впрочем, этот афоризм приписывают и Н.Н. Муравьёву-Амурскому. Под впечатлением от виселиц 1863 года этот исторический анекдот припомнили. Муравьёв-вешатель, Муравьёв-палач – так называли усмирителя Польши салонные удальцы.
На личной аудиенции Александр II назначил Муравьёва виленским, гродненским и минским генерал-губернатором, командующим войсками Виленского военного округа. Ему предстояло столкнуться с главными силами повстанцев. Ответ Муравьёва напоминал речи героев Плутарха: «Я с удовольствием готов собою жертвовать для пользы и блага России». И это не показная решительность, старику не нужно было притворяться.
Современные белорусские националисты Муравьёва ненавидят, а ведь он был защитником православного крестьянства. Ополяченную шляхту Муравьёв не жаловал, зато дал ход изучению белорусского языка, истории этого славянского края. Мудрый политик потому и победил, что опирался на большинство.
Как только его не проклинали, любая брань по адресу Муравьёва считалась позволительной... Хладнокровное изучение биографии генерала показывает, как далёк он был от образа карикатурного бульдога... В четырнадцать лет «палач» основал... Московское математическое общество, а в шестнадцать поспешил защищать Отечество от нашествия двунадесяти языков. Шёл 1812 год... В день Бородина, на батарее Раевского, он стоял насмерть. Был ранен в ногу, с тех пор всю жизнь хромал. Получил первую награду – Владимира 4-й степени. Через несколько месяцев лечения он возвращается в армию. Подпоручик Муравьёв участвовал в Дрезденском сражении, но рана беспокоила его. Он опасался, что не сумеет стать исправным офицером, просился в отставку и всё-таки остался в строю.
Он пригодился системе Николая I, именно тогда сложился административный стиль Муравьёва – целеустремлённого и волевого управленца, несгибаемого охранителя державы.
Своя правда есть и у хулителей имперских инстинктов России, но, превращая эту правду в политкорректный абсолют, мы ставим себя в ложное положение. Когда советской державе приходилось защищать свои интересы в схожих условиях, нам не хватало на знамёнах образа Муравьёва. Историкам навязывали трафаретный образ Вешателя. И никого не интересовало, что на совести польских повстанцев даже повешенных и замученных в три-четыре раза больше, чем у Муравьёва. Они казнили бессудно – просто хватали православных крестьян, не желавших помогать восстанию. К тому же они начали эту бойню, а Муравьёв был вынужден строго наказать виновных. Да, у него при этом не дрогнула рука. Он отправил на казнь 128 человек – зачинщиков бойни. 10–12 тысяч преступников отправил в арестантские роты и на каторгу. А повстанцев насчитывалось около ста тысяч, остальных отпустили по домам. А сколько безвинных жертв было бы брошено на алтарь польского восстания, если бы русские генералы, самым последовательным из которых был Михаил Николаевич, не пресекли гражданскую войну? Но исторические репутации создаются по технологии подтасовки: «прогрессивным» прощается всё, а от консерваторов требуют мягкотелости. Грузный Муравьёв был политиком ловким, предприимчивым, энергичным. Он умел побеждать – и за это его ненавидели с особым жаром. Будь он беспринципным сонным вельможей – про него бы и не вспоминали. А он, к ужасу весёлых разрушителей, действовал осмотрительно, да ещё и самоотверженно. Жертвовал собой!
Убеждённый патриот великой России, он не считал имперскую идею обречённой, а позиции России – заведомо проигрышными. Бодрость XVIII века ему удалось сохранить в эпоху нигилизма, когда общество разделилось не на бойцов и обывателей, а на «новых людей» и ретроградов. То есть вместо битвы за великую державу русские люди настраивались на междоусобицу, забыв о сплочении. Это примета упадка, тут уж не до серьёзных побед. А Муравьёв показал, что можно идти против идеологической моды, против этой стихии, которая набирала ход, и побеждать. Он не был одним-единственным воином в поле. Идеологически Муравьёва поддерживал Михаил Никифорович Катков. Без стараний этого публициста вряд ли Муравьёва выдвинули бы на первые роли. Катков доказал, что консерватизм бывает не только политесным, но и живым, горячим, искренним. И, хотя стратегическое противостояние с нигилистами и западниками будет проиграно, в 1863-м держава устояла. Противники Каткова должны были доказать, что он либо неискренен, либо невежествен. Благонамеренный историк Сергей Татищев писал: «Общее одушевление, вызванное событиями в Польше, знаменует переворот в воззрениях русского общества на существеннейшие вопросы политики... Пробудившееся в нём народное самосознание свело его с пути увлечений отвлечёнными учениями, навеянными с Запада, и возвратило к правильной оценке и разумению исторических начал русской государственной и общественной жизни. Поборником единения всех русских людей с Верховной властью в общем деле отстаивания державных прав России, её чести и достоинства явился... М.Н. Катков. Пламенная речь этого даровитого и убеждённого писателя поколебала и скоро совсем вытеснила влияние либеральных органов и заграничных выходцев, которым известная часть русского общества подчинялась дотоле». История не подтвердила оптимизм Татищева: либералы очень скоро усилят позиции, станут ещё изобретательнее и самоувереннее. Но и за тактическую победу Катков заслуживает восхищения – ему ведь случалось оставаться в одиночестве против общественной волны. Охранители 1863-го показали, что есть у России самостоятельный державный путь. Но прочно овладеть умами реакционным идеологам всё-таки не удалось – даже при Александре III. Трудно было скрестить самодержавный патриотизм с буржуазной реальностью. Просто и ясно опишет эту коллизию Есенин: «И продал власть аристократ промышленникам и банкирам».
Идеологическая слабость тогдашней России ощущалась в противоречивом диалоге с европейскими державами. Вот раньше целый век у России была объединительная идея – побеждать. Державин уловил её точнее и простодушнее других:
Воды быстрые Дуная
Уж в руках теперь у нас;
Храбрость Россов почитая,
Тавр под нами и Кавказ.
Всё – наше! Просвещение и Победа – вот пароль и отзыв русского XVIII века. А потом пришли сомнения. Явились утончённые господа, которых белым хлебом не корми – только дай поругать Россию, её свинцовые мерзости, её неповоротливость и жестокость. «Как сладостно отчизну ненавидеть», – напишет радикальный космополит падре Печерин. А Герцен в «Колоколе» даже Виктора Гюго привлёк для антиимперской пропаганды во дни польского восстания.
Общество (точнее – его самая шумная и прогрессивная часть!) подвергнет обструкции Михаила Николаевича Муравьёва – грозного старика, который действовал в Польше расторопно и несгибаемо. Внук Суворова, петербургский губернатор, отказался преподнести «людоеду» Муравьёву приветственный адрес. Тютчев (один из немногих поэтов, не попавших под гипноз либерализма) обратился к внуку генералиссимуса с укоризненным посланием:
Гуманный внук воинственного деда,
Простите нам, наш симпатичный князь,
Что русского честим мы людоеда,
Мы, русские, Европы не спросясь!.. «…»
Но нам сдаётся, князь, ваш дед великий
Его скрепил бы подписью своей…
А потом в Английском клубе Николай Алексеевич Некрасов зачитал Муравьёву оду в духе победного XVIII века, но с новыми полемическими поворотами, неизбежными для 1860-х:
Мятеж прошёл, крамола ляжет,
В Литве и Жмуди мир взойдёт;
Тогда и самый враг твой скажет:
Велик твой подвиг... и вздохнёт.
Вздохнёт, что, ставши сумасбродом,
Забыв присягу, свой позор,
Затеял с доблестным народом
Поднять давно решённый спор.
Нет, не помогут им усилья
Подземных их крамольных сил.
Зри! Над тобой, простёрши крылья,
Парит архангел Михаил!
Тут уж шум поднялся невиданный. Недавние поклонники проклинали, топтали Некрасова, произвели его в «нерукопожатные» (словечко из другого мнения, но смысл всё тот же). Рядом воспевал Муравьёва Фёдор Иванович Тютчев, но он не был властителем дум, его просто считали безнадёжным чужаком, ретроградом. А в Некрасове разочаровались бурно.
Не так давно, после цикла эффектных телепередач, книгу об Александре II выпустил Эдвард Радзинский. Автор «104 страниц про любовь» наловчился писать об истории Отечества языком «Мурзилки» – и это (говорю без высокомерия и иронии) завидное умение. Но, повествуя о польском восстании 1863-го, о Муравьёве, Некрасове, почему-то сбивается на пересказ Корнея Чуковского. Правда, Чуковский не приписывал Некрасову чудесных стихов Тхоржевского: «Лёгкой жизни я просил у Бога, Лёгкой смерти надо бы просить». У Некрасова хватает гениальных строк, зачем же добавлять чужое – явно написанное в ХХ веке? Тут уже не удивляешься неточным цитатам из Пушкина («Клеветникам России»). И это притом, что антология русской поэзии Радзинскому неплохо известна, и без поэтических цитат его повествование вообще получилось бы слепоглухонемым. Для Радзинского Муравьёв – устрашающий бульдог с тигриными глазами и девизом «Для меня лучший поляк – повешенный». Карикатура! Ретроград, стоящий на пути прогресса, который, как известно, курсирует по одностороннему движению: из Европы к нам. О польских зверствах, о политике террора драматург умалчивает. Да не он первый!
Тогда, в 1863-м, после победы Муравьёва, Герцен негодовал: «Дворянство, литераторы, учёные и даже ученики повально заражены: в их соки и ткани всосался патриотический сифилис». И впрямь, были и есть в России люди, убеждённые, что лучше быть бульдогом на страже Родины, чем шакалом на службе. Тютчев подарил Муравьёву такую эпитафию:
На гробовой его покров
Мы, вместо всех венков, кладём слова простые:
Не много было б у него врагов,
Когда бы не твои, Россия.
150 лет назад решалось: защитит ли Россия суверенитет – от сепаратистов, от соседей, от надменного европейского сообщества. Слабых, как известно, бьют – даже «польские паны». Если бы не Муравьёв, возможно, и у армии, и у императора не хватило бы воли. Будем помнить героя, который не красивничал, а служил – не напоказ, но верой и правдой. И без оглядки на «просвещённую Европу».
Арсений Замостьянов
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.